Пишу в качестве заметки, на память. Это не отчёт, не монография и уж тем более не научная работа. Просто эмоции переполняют и мысли требуют выхода на бумагу. Интересное, кстати, выражение «на бумагу». Сейчас, в век компьютерных технологий, не многие знают, что такое бумага, а выражением пользуются до сих пор.
Но я не о том хотел сказать. Главное — мне посчастливилось стать участником триста пятнадцатой Всепланетной Конгрессиады. Не многие знают, что начало этой поистине величайшей культурной традиции было положено ещё в древние тёмные века, когда наши предки устраивали так называемые «олимпиады». Разница в том, что «олимпиады» того времени представляли спортивные соревнования, где участники демонстрировали свою физическую силу, ловкость и быстроту. В Конгрессиаде же, как известно, участвуют коллективы учёных со всего мира, выставляя на суд общества наилучшие творческие достижения своего разума.
Я с малых лет был заворожён этим поистине грандиозным событием и очень сетовал, что оно проводится только раз в четыре года. Тоже, кстати, дань традиции. Таком образом, мне удалось стать свидетелем всего лишь одной Конгрессиады. Как ребёнка меня интересовали больше всего секции биологии, археологии, искусственной биологии и генетики. Новые виды животных и растений, удивительные экосистемы, организмы симбионты и искусственные организмы, созданные для решения каких-то определённых задач: лечения болезней, расширение биологических способностей человека. Всё это завораживало меня. Сколько бессонных ночей я провёл за компьютером, наблюдая за выступлениями докладчиков. Это было, наверное, счастливейшее время в моей жизни. Пусть я и не всё понимал из услышанного, но всё равно тайком выставлял в настройках уровень изложения материала с «детского» или «научно-популярного» на «продвинутый», в душе считая себя маленьким учёным, а не ребёнком. Правда, вредный искусственный интеллект компьютера без спроса сбрасывал уровень восприятия обратно, если замечал, что я чего-то не понимаю.
Разумеется, я мечтал, что сам смогу когда-нибудь выступить на Конгрессиаде, но я уже в детстве понимал, что для осуществления этой мечты нужно много работать, поскольку не каждое научное открытие достойно мероприятия планетарного масштаба.
После общеобразовательной школы я пошёл не в общее высшее учебное заведение для тех, кто ещё не определился с выбором будущей профессии, а сразу в университет социогенетики. Да, интерес к биологии к концу школы у меня несколько угас, как часто бывает со всеми детьми. В юности меня увлекли более сложные системы социальных групп: как они возникают, развиваются, эволюционируют, гибнут. Это был новый, более масштабный уровень, чем простая биология (путь биологи не сердятся на меня за такой вульгаризм).
Я погрузился в социогенетику с головой. Как биологу любителю мне было интересно проводить аналогии между эволюцией клеточной структуры какого-либо организма и эволюцией социума. Удивительно было осознавать, что и эволюция социума имеет свои закономерности, и не является набором случайных факторов. Как говорил мой научный руководитель, Александр Прокопыч: «Чем хаотичнее ведут себя элементы какой-либо большой системы, тем более закономерно поведение системы в целом». В качестве демонстрационного примера он приводил законы термодинамики, где хаотичное, непредсказуемое движение атомов определяет законы, одинаково хорошо описывающие и кипение воды в чайнике, и взрывы сверхновых звёзд. Социогенетика стала для меня термодинамикой для человеческих масс.
Особенно меня интересовали тёмные времена. Как гласит теорема Эхштейна, развитие каждого социума происходит волнообразно, и некоторые прогибы в волнах могут приводить к появлению «тёмных времен» — периодов, когда человечество мало что помнит о себе. Для нашей цивилизации такие времена были примерно пятьсот тысяч лет назад. О том времени у нас сохранились лишь некоторые материальные памятники культуры, и то благодаря какой-то странной любви наших предков к гигантизму: огромные пирамиды непонятного назначения, плотины, каналы, огромные бетонные сооружения. Широкому кругу читателей больше известны знаменитые искусственные озёра практически идеальной круглой формы, которыми буквально утыканы наиболее вероятные места обитания наших предков. Озёра эти тоже, разумеется, огромные. И это почти всё, что осталось от прежней цивилизации. Ничего, что свидетельствовало бы о социальной и культурной жизни.
Именно поэтому я и выбрал такую сложную тему своей дипломной работы: «Социальное взаимодействие людей в Тёмные века». Сейчас мне мой поступок кажется легкомысленным. Тогда я был моложе на целый год, только что окончил университет и считал, что мне всё по силам. И если уж замахиваться на научную проблему, то на глобальную. Мой друг, Сёмка, советовал мне даже не заикаться про такую тему на учёном совете, так как её никогда не одобрят из-за гуманности, ибо для одного учёного это явно непосильная задача.
— Твою тему никогда не примут, — сказал тогда он, — она слишком большая и сложная для одного человека. Это работа для целого института.
— А вот и примут. Не имеют право не принять. – возразил я. — Каждый может выбирать любую тему для первого научного изыскания. Это право гарантировано Планетарной Конституцией.
— Верно, — согласился Сёмка, — но если работа слишком большая, учёный совет предложит заметить её на что-то более простое.
Я Сёмку, разумеется, не слушал. Сам он учился в общем высшем учебном заведении, звёзд с неба не хватал, и мало что смыслил в большой науке. Но его опасения всё-таки имели рациональное зерно. И я сам побаивался, что мою тему не одобрят.
— А сам-то ты какую тему выбрал? – спросил я тогда.
— «Влияние фаз Луны на созревание твёрдого сыра с голубой плесенью», — горделиво заметил Сёмка.
Я прыснул от смеха, хотя это было очень неприлично.
— Вот твою-то тему точно не примут. Она попахивает какой-то средневековой астрологией.
— Поживём-увидим, — надулся Сёмка.
Он тогда зря на меня обиделся. Я, разумеется, желал ему всяческих удач в научной деятельности. Тему его, кстати, одобрили. Правда, еле-еле вытянули её на второй уровень научной значимости.
— Как же так? Это же очень важная проблема! – возмущался Сёмка. – Сыр с голубой плесенью – это самое популярное блюдо. Самое сложное в производстве! А они только второй уровень дали.
— Хорошо, что не первый, — резонно заметил я. – Первый дают только совсем никому не нужным темам. И обеспечения у них никакого. А второй уровень – это даже неплохо. У тебя будет доступ и к базе астрономических наблюдений, и к данным о вызревании сыра. Даже разрешили натурные опыты на местном заводе проводить. Чего тебе ещё надо?
— А эксперименты? – Сёмка никак не хотел утешиться. – Я думал, что смогу устроить параллельное опытное производство на разных континентах планеты. Ведь расстояние до Луны с разных точек Земли в одно и то же время разное. Соответственно, и влияние на сыр будет идти по-разному.
— Ну ты размахнулся. Чтобы одобрили такие эксперименты, уровень научной значимости должен быть не меньше пятого.
— Ай ладно, — Сёмка махнул рукой, — хватит мне и второго уровня. А тебе какой уровень присвоили?
— Пока не знаю, — повесил я нос, — отправили на рассмотрение в высший университетский контроль. Боюсь, и вправду не одобрят.
— Ты не переживай, — утешил меня Сёмка, — если не одобрят, присоединяйся к моему сыру.
Заниматься сыром мне, конечно, не хотелось. Это после целого года изучения социальной эволюции и социогенетики? Но тему мою всё-таки одобрили. И не просто одобрили, а утвердили восьмой уровень научной значимости. От такой новости у меня даже дух перехватило, и сердце заколотилось как у колибри. Восьмой уровень означал, что я получаю свободный доступ к материалам по теме в любых университетах планеты, получаю небольшую походную стандартную лабораторию со всем типовым исследовательским оборудованием. Могу заказать один экземпляр нетипового оборудования с обоснованием необходимости. Но самое главное – у меня было право организовать до десяти научных экспедиций в пределах населенной зоны планеты, а это практически вся Земля, за исключением северного и южного полюса и мирового океана глубже десяти метров. В качестве помощников мне разрешалось набрать не более пятнадцати желающих студентов младших курсов, которым наши совместные исследования засчитывались бы как исследовательская практика.
От нахлынувших на меня возможностей кружилась голова. Я и мечтать не мог о восьмом уровне. Разумеется, все свои действия, особенно связанные с жизнью людей, я должен был согласовывать с руководителем-администратором. К счастью, современная компьютерная техника достигла такого уровня, что типовой руководитель-администратор занимал совсем немного места, и его можно было легко таскать с собой в рюкзаке.
Под вечер, когда первая эйфория прошла, я стал строить планы своих будущих экспедиций. Сёмка присоединился ко мне из чувства солидарности: то ли к моей работе, то ли к пицце, которую я заказал в автомате на углу улицы.
— Во-первых, мне хочется провести глубокие раскопки на великих озёрах, — сказал я, — мне кажется, что ученые до сих пор недооценивали значимость этих мест. Потом я бы отправился в африканские пустыни. Может, на береговом шельфе стоит тоже посмотреть, ведь пятьсот тысяч лет назад уровень моря был гораздо ниже. Задача стоит нетривиальная: не просто найти более весомые свидетельства культуры наших далёких предков из тёмных веков, но и попытаться на основе этих культурных памятников восстановить образ их социального устройства.
— А у тебя рот раскроется на такую огромную ягодку? — усмехнулся Сёмка, беря уже третий кусок пиццы. — У тебя только десять экспедиций, а этих озёр – тысячи. Как ты выберешь, где тебе копать?
Я задумался.
— Наверное, выберу самые крупные, — предположил я.
— Ага, а на самых крупных где ты устроишься? – продолжал давить Сёмка. – Там же огромные пространства.
— Вечно пессимизмом своим портишь всё настроение, — обиделся я. — Ты мне просто завидуешь.
— И вовсе не завидую. И уж точно ничего не порчу. Я просто создаю рационалистический противовес твоим радужным мечтаниям, чтобы ты о проблемах подумал заранее. И чтобы не было неприятного сюрприза потом.
Что ни говори, а он был прав. Это только на первый взгляд казалось, что передо мной куча возможностей, но на самом деле получалось, что я был очень ограничен в ресурсах. Мы сидели с Сёмкой шесть часов, выбирая на карте места для будущих экспедиций, просматривали данные геологической разведки, спутниковые снимки, карты тепловых и радиационных полей Земли, исторические заметки, художественную литературу и даже детские сказки. В итоге мы отобрали около сотни наиболее перспективных мест, где было бы здорово провести раскопки.
— Всё равно много. У меня только на десять экспедиций ресурс.
— Это да, — вздохнул Сёмка, — а ты меня, кстати, возьмёшь с собой? Я бы с удовольствием понаблюдал за ростом своего сыра в северных широтах. Обещаю, что багаж у меня будет минимальный.
— Да возьму, возьму, — улыбнулся я, прекрасно понимая наивную хитрость Сёмки.
— Ну тогда вот тебе и решение твоей проблемы. Поедем на все выбранные места.
— И как это твой сыр нам поможет вместо десяти экспедиций устроить сто?
— Да причём тут сыр? — возмутился Сёмка моей недогадливости. — Ты должен объединиться не только со мной, но и с другими выпускниками: историками, биологами, химиками — теми, кому посчастливилось получить седьмой или восьмой уровень. Найди таких человек десять. Составьте с ними общий план интересных мест и вуаля – вместо десяти персональных экспедиций у вас будет сто общих.
С полминуты я сидел молча, переваривая неожиданное открытие.
— Сёмка, а ведь ты – гений. Тебе надо было на административный курс поступать!
— Вот уж нет, — хмыкнул Сёмка, беря ещё пиццу, — я искусство сыродела не променяю на занудную скукотищу администратора.
Найти десять выпускников, которым были бы интересны намеченные мной места, не удалось. Слишком уж разные были у всех темы. Но удалось найти пятерых. В итоге мы выбрали тридцать семь, а не пятьдесят, интересных всем мест исследования. Тут во многом постарался Сёмка, стыкуя разные экспедиции по времени и маршрутам. Оставалась проблема с питанием.
— Мы можем теперь устроить почти в четыре раза больше экспедиций, — сказал Сёмка, азартно потирая руки, — но вот что мы будем есть?
— Как что? – не понял я вопроса. – В любом ресторане полно еды. Бери, сколько хочешь.
— Сразу видно, что ты ни разу не ходил в походы, — хихикнул Сёмка. – Представляешь, в походах нет ресторанов.
— Разумеется, нет, — возмутился я, — это всем известно. Я имею в виду, что можно зайти в любой ресторан и набрать еды, сколько захочется.
Сёмка рассмеялся так, что я даже обиделся, хотя я прекрасно понимал суть проблемы.
— Не можешь ты взять столько еды, — Сёмка ухватился за возможность поучить меня социологии, — потому что в каждом ресторане, кафе или пункте питания рассчитывается среднестатистическая суточная потребность, и в зависимости от неё готовится еда.
— Но есть же какой-то запас? — стал спорить я чисто из-за упрямства. — И можно пройтись не по одному ресторану, а по нескольким.
— Это будет замечено и тебе не дадут. Это будет похоже на злоупотребление. Это когда люди тратят общественную собственность несоразмерно целям.
— Но разве такое распространено в наше время?
— Конечно распространено, — скривил нос Сёмка. – Только вчера смотрел репортаж об одном руководителе аграрного предприятия. Он собирал молоко в окрестных пунктах питания, чтобы повысить выработку молока своим производством.
— Но зачем это ему? – не понял я. – От этого же молока не прибавится.
— Ну, тут у него была личная заинтересованность. Он допустил несколько ошибок в уходе за животными, удои у него упали. Ему было стыдно за это, и он решил скрыть свою ошибку от общества, забирая готовое молоко из пунктов питания и выдавая его за произведенное вверенным ему предприятием.
— Но это же какой-то персонализм, — махнул я рукой. – Просто человек был болен, и врачи вовремя не смогли ему помочь. Вряд ли такие случаи массовые.
— Это верно. Но могут быть и неосознанные злоупотребления, — авторитетно заявил Сёмка.
— Это как это?
— Ну, например, ты можешь на любом складе заказать себе компьютер, и тебе его доставят почтой за пару часов. А можешь заказать и два.
— Ну, могу.
— А вот представь человека, который не понимает, зачем нужен компьютер.
— Не могу представить.
— Ну хорошо, пусть это будет очень специализированный нейролингвистический компьютер-агрегатор. О таких не все знают.
— Хорошо, допустим.
— И вот человек заказывает себе сотню таких, чтобы, например, использовать их как простые калькуляторы. Или просто дорожку из них выложить в саду хочет. Это и будет злоупотребление по незнанию.
— Кажется понял. Но мне нужен не суперкомпьютер, а всего лишь еда.
— Без разницы. К тому же, тебе всё равно нужна не простая еда, а специализированный сухой паёк для долгих экспедиций. Не будешь же ты таскать с собой бочки с прокисшей овсяной кашей?
— Мда, я не думал об этом вопросе с такой стороны.
— Разумеется. Ты привык жить со всеми удобствами и не думать о таких мелочах как еда, одежда, жильё, транспорт. Современное общество избаловало людей, и вещи, которые сейчас кажутся обыденными, сто тысяч лет назад были недостижимой фантастикой.
— Так что же нам делать?
— Нужно написать запрос, чтобы официально получить увеличение рациона. Если мы сумеет доказать целевое использование просимого, нам не смогут отказать.
Я посоветовался с руководителем-администратором, можно ли увеличить походный рацион, на что он мне поначалу всё-таки отказал. Я попытался его уговорить, но бездушная железка была непреклонна. Тогда я попытался объяснить, что, участвуя в совместных экспедициях, я, наоборот, экономлю кучу ресурсов, так как за ресурс, выделенный на 10 походов, я участвую в 37-и. Нужна только еда. На сей раз руководитель задумался надолго. Так всегда бывало, когда он связывался с учёным советом. Я прождал всю ночь и заснул прямо за столом, а на утро руководитель мне сообщил, что моя заявка на увеличение рациона одобрена. А за рационализаторское предложение мне разрешается выбрать дополнительно один прибор, доступный для девятого уровня. Я выбрал, разумеется, универсальную глубоководную бурильную установку.
Не буду здесь описывать наши исследовательские миссии. Они заслуживают отдельной книги. Постоянные перелёты, походы по диким местам, обустройство лагеря, раскопки. Скажу сразу, что я не ошибся, и мы действительно нашли очень много интересных артефактов из темной эпохи. Удача пришла не сразу, и помогли нам, как не странно, наши спутники биологи. Они исследовали места взрывной эволюции. Это места, где в тёмные века наблюдалось колоссальное видообразование. Оказывается, такие места тоже сосредоточены вокруг великих озёр. Теперь мне кажется это очевидным. Наши предки, разумеется, были, как и мы, гуманистами и старались поддерживать разнообразие видов там, где жили сами. А селиться они любили преимущественно вокруг озёр, как окончательно доказали наши исследования.
Ребята в наши экспедиции записывались в очередь, так что приходилось объявлять конкурс среди желающих. Руководитель-администратор работал и днём, и ночью, обрабатывая заявки, проводя опросы и анкетирования. Я даже было подумывал о более мощном администраторе, но мой, узнав об этом, тут же нашёл резервы на университетским суперкомпьютере.
Я обязательно напишу что-нибудь наподобие мемуаров про мои экспедиции, когда у меня будет чуть побольше свободного времени. Скажу только, что это был лучший год моей жизни. С одной стороны, год — это немного, но с другой стороны, я и прожил-то немного годов. Так что для меня этот год – это целая эпоха.
Когда пришла пора защиты проекта, сомнения нахлынули на меня как волны неожиданного цунами. Я давно уже сделал все публикации, подал все документы на рассмотрение, но результат всё никак не приходил. Сёмка уже давно получил свой диплом. Он, кстати, сумел доказать влияние Луны на созревание сыра с плесенью. Это было удивительно, но цифры не врали. Оказалось, что среди сыроделов существенно выше процент приверженцев лунного календаря, и множество праздников, которые они отмечают, несомненно влияют на их работу по изготовлению сыра. Скажу даже больше: научные статьи Сёмки вызвали впоследствии широкий общественный резонанс, так что появился даже особый сорт сыра – лунный с плесенью, то есть изготовленный при соблюдении всех праздников лунного календаря. Я пробовал это сыр и не нашёл в нём ничего особенного. Но гурманы отмечают его необычный насыщенный вкус.
А по поводу моего диплома долгое время не было никаких известий. Это было самое тяжелое время для меня. Мне всё время казалось, что мою работу сочтут недостаточно значимой.
— Да ладно тебе дёргаться, — утешал меня Сёмка, — не может быть, чтобы твою работу сочли пустышкой: столько же статей написано, докладов, фильмов снято. У тебя одних открытий – десятки.
— Да это понятно, — отмахивался я. — Я и не говорю, что совсем не зачтут, а просто посчитают несоответствующей вложенным в неё общественным ресурсам.
— И часто такое бывает? – усмехнулся Сёмка.
— Не знаю, я не интересовался, — признался я.
— А я вот интересовался. За последние сто лет такое случалось лишь дважды. В одной работе исследовалось влияние жирной пищи и долгого сна на развитие интеллектуальных способностей человека, во второй пытались создать электрический термогенератор из золотого провода длиной триста метров.
— Наверное, ты прав, — немного успокоился я, — но почему тогда я никак не получу диплом?
— Не только ты. Я знаю ещё несколько ребят с восьмым и девятым уровнем, у которых прекрасные работы, но они тоже ещё не получили диплома. Наверное, учёный совет хочет устроить какие-нибудь торжества или ещё что-то в этом роде.
Разгадка свалилась как снег на голову – Конгрессиада. В этом году планетарный учёный совет решил вынести рассмотрение наиболее интересных работ, а их получилось довольно-таки много, на Конгрессиаду. Организаторы решили попробовать новый формат вручения дипломов особо отличившимся молодым учёным. Разумеется, мы не были полноправными участниками Конгрессиады. Это было бы нечестно по отношению к нам. Согласитесь, тяжело состязаться выпускнику с профессорами, вырастившими не одно поколение учёных. Нам даже не устраивали публичную защиту наших работ, так как это было бы слишком волнительно, и не каждый выпускник справился бы с таким стрессом. Но дискуссионный элемент всё-таки оставили. Иначе бы это была не Конгрессиада.
Итак, я в числе других молодых учёных должен был присутствовать на публичном обсуждении моей работы, отвечать на вопросы именитых профессоров и академиков, ну и своих сверстников, разумеется. Когда я узнал про эту новость, уши мои похолодели так, что мне казалось, будто бы они покрылись льдом.
— Видишь, как всё здорово вышло, — утешал меня Сёмка, — а ты боялся, что твою работу не примут. Ещё как приняли, да ещё торжественное вручение диплома устроили. Я обязательно буду присутствовать. Достать бы только входной билет. Желающих, наверное, будет море. Ну чего ты такой кислый, словно бы несвежей овсянки объелся?
— Как ты не понимаешь, — вымученно простонал я, — это же такая ответственность – выступать на Конгрессиаде.
— Да не выступать же, — рассмеялся Сёмка, — просто выслушать рецензии на свою работу, ответить на вопросы. Твоя работа уже засчитана и твой диплом у тебя уже в кармане. Хватит дрожать. Нельзя быть таким мнительным!
— Да я понимаю, что в кармане. Я не о том вовсе беспокоюсь. Что если я ляпну что-нибудь не то? Перед всем научным сообществом. Это же будет позор на всю жизнь!
— Хорошего же ты мнения о наших светилах науки. По-твоему, их хлебом не корми, дай лишь похихикать над ошибками молодых коллег?
— Нет, конечно же нет, — поспешил поправиться я. – Я прекрасно понимаю, что никто надо мной смеяться не будет. Наоборот: помогут, направят, подскажут и приободрят. Но всё равно будет стыдно, если я что-то не то скажу.
Вообще-то, я с детства мечтал когда-нибудь поучаствовать в Конгрессиаде. Не раз я представлял себя на трибуне, делающим доклад о своём открытии, безусловно великом и полезном для общества. А вокруг, в огромном зале, сидят знаменитейшие учёные, чьи портреты есть во всех учебниках. И они слушают меня и восхищаются. Не все восхищаются, конечно, иначе было бы не интересно. Некоторые спорят, опровергают мои открытия. Как же без этого? Без этого нет науки. А я побеждаю их в спорах. Очень мягко и деликатно, так, что все они высоко оценивают мою тактичность. А как же иначе? Мы же все делаем одно общее дело – двигаем человечество к большому светлому будущему. Наши мысли, наши идеи – это и есть само человечество. И все мы только и хотим, чтобы наш коллективный разум развивался дальше, познавая удивительный окружающий мир, удивительную вселенную.
Не подумайте только, что я недооцениваю другие профессии. Мы все части единого общества и каждый привносит в общее дело лучшее, что может создать руками, придумать головой, сказать языком или изобразить движением тела. Тут во мне нет ни капли снисходительности или пренебрежения трудом других людей. И ту же работу Сёмки с его сыром я ценю не меньше моей. И это правда. Сёмка очень чувствительный на этот счёт. Если бы он почувствовал снисхождение или пренебрежение с моей стороны, то первым бы расцарапал мне нос. Другое дело, я считаю, что он мог бы взяться и за более сложную задачу. И я честно об этом ему говорил. И тут он не обижается. Я поначалу не понимал его. А теперь вот, когда вот-вот уже подойдёт моя очередь выходить на трибуну для получения диплома, я сильно завидовал Сёмке и считал его чуть ли не мудрецом-провидцем.
— Не трясись ты так, — сказал он, — от тебя даже пол дрожит. Успокойся!
Мой друг, конечно, не оставил меня в этот трудный момент и смог как-то пробраться в комнату выпускников.
— Я точно ляпну какую-нибудь глупость, — сказал я, глядя вслед девушке, которая стояла передо мной в очереди на трибуну.
— Тогда не говори ничего, — предложил Сёмка.
— Так это ещё хуже! – взорвался я. – Как ты можешь такое предлагать?
— Я и не предлагаю. Я просто моделирую для тебя альтернативную ситуацию. Чтобы ты понял, что бояться нечего. Чем больше ты волнуешься, тем больше шансов что-то ляпнуть или вообще разучиться говорить.
От его слов у меня и вправду комок встал в горле.
— А ты знаешь, что раньше, до тёмных веков, наши предки получали молоко из гигантских существ, похожих на динозавров с рогами? – спросил Сёмка, чтобы отвлечь меня.
— Конечно знаю. Это же одно из наших открытий.
— Правда? – искренне удивился он. – А я вычитал об этом только сегодня в интернете.
Участников вызывали по очереди. Один из членов учёного совета, известный учёный с мировым именем, делал обзор работы, указывал на недостатки и больше на достоинства, а потом торжественно вручал диплом о получении учёной степени, вешал на шею медали за отдельные заслуги и под торжественные аплодисменты провожал молодого коллегу в зрительный зал. По большому счёту это была не защита работы, а лишь торжественная часть. Я немного успокоился и даже стал отвечать на Сёмкины шутки.
Вскоре и я пошёл на трибуну. Я старался не смотреть в зрительный зал, чтобы не волноваться, но не утерпел и глянул. Моему взору предстал амфитеатр на несколько тысяч мест. И как мне показалось, все места были заняты. Я увидел несколько больших экранов, по которым транслировалось моё изображение для дальних рядов. Побыстрей отвернувшись от всего этого, я прошёл к трибуне соискателя. В этот момент на трибуну докладчика торжественно взошёл профессор Николас Пипа. Зал разразился аплодисментами. И не мудрено: не было, казалось, такой научной дисциплины, такого направления, в котором профессор не имел бы значимых трудов. Но особенно он преуспел в археологии. Он был членом нескольких академий, преподавал в девяти университетах в разных концах планеты, а ещё участвовал в детской передаче для дошкольников, чего никто не понимал из его научного окружения, считая это занятие пустой тратой драгоценного времени.
Как только раздались аплодисменты, профессор, несмотря на преклонный возраст, замахал руками и шустро взбежал на трибуну к микрофону.
— Друзья мои, — проговорил он, — я тоже рад вас всех видеть, но мы все собрались здесь не по моему поводу, а чтобы принять в ряды учёных нашего молодого коллегу. Так что прошу всех тишины.
Старик укоризненно уставился в зал, и аплодисменты понемногу стихли. Он ещё постоял минуту, сверля амфитеатр взглядом, и многие стали стыдливо отворачиваться. В этот момент я взглянул на экран, и мне самому стало стыдно, хотя я с перепугу и не хлопал. Профессор выглядел очень солидно. Особенно выдающимся у него был нос, большой и слегка загнутый книзу. Если бы у меня был такой нос, я бы выглядел, наверное, в десять раз солиднее, чем сейчас. Мой нос, к сожалению, курносо загибался кверху, выдавая мой юный возраст. Пипа подождал ещё несколько секунд, потом начал речь: по-простому, без какой-либо торжественности или пафоса:
— Друзья, я рад, что мне выпала честь выступать рецензентом на этом празднике интеллекта. Это первый год, когда мы приветствуем на этом мероприятии молодых учёных. И это не случайно. Именно в этом году наше общество породило колоссальное количество по-настоящему интересных открытий и изобретений, так что учёный совет решил вынести рассмотрение наиболее выдающихся на нашу Конгрессиаду. Не на конкурсной основе, разумеется, а в виде презентации.
Я очень рад, что жеребьёвка выдала мне именно эту работу, посвященную археологическим исследованиям. Как известно, Тёмные века – это самое таинственное, самое интригующее время в истории человечества. До нас дошло совсем немного материальных памятников культуры, а нематериальные не сохранились даже в легендах. Именно поэтому я негативно отнёсся к теме автора, который посягнул на исследование социальных структур человечества в Тёмные века. Я считал, что эта задача если и разрешима, то требует огромного количества ресурсов, не сопоставимых с ресурсами, выделяемыми обществом на первое исследование.
Несмотря на это, я высказался за то, чтобы разрешить эту тему. То, что я считал вопрос неразрешимым ещё не означало, что его не может решить другой, более молодой и смелый ум. Я не имел морального права голосовать против из-за этого. Но я на процедуре выбора темы указал на все её трудности и опасности. Молодой человек пренебрёг всеми моими увещеваниями и не захотел отказаться от своей работы. Поэтому я и вынес на совет предложение дать ему повышенный уровень научной значимости, чтобы он сумел-таки раскрыть свою тему. Это был риск. В первую очередь – риск для молодого ученого. Во вторую – для ученого совета. Но восьмой уровень всё-таки удалось одобрить. И, как говорится, не зря.
Соискатель сумел максимально использовать выделенные ему ресурсы, а благодаря управленческой оптимизации реализовал в четыре раза больше исследовательских экспедиций, чем было ему выделено. И результаты оказались потрясающими.
Все вы знаете, эволюция на Земле проходит нелинейно: периоды массового вымирания сменяются периодами бурного видообразования. Мы предполагали, что и эволюция разума имеет сходные закономерности. Тёмные века – это время такого спада коллективного человеческого разума. Откуда мы это знаем? Об этом нам говорят редкие материальные ценности, доставшиеся нам от наших предков: огромные пирамиды, огромные дворцы, мосты, плотины. Всё это практически исчезло за пятьсот тысяч лет, превратилось в пыль, но в искусственном происхождении этих сооружений нет никаких сомнений. То есть пятьсот тысяч лет назад наш интеллект был настолько развит, что позволял создавать сложные инженерные сооружения. Потом случилось массовое вымирание, о причинах которого ещё спорят учёные. А потом, по законам эволюции, очередной всплеск видообразования.
Мы знали, что центром нового эволюционного взрыва стали великие озёра практически идеальной круглой формы. Кое кто даже высказывал гипотезы об их искусственном происхождении. Рецензируемое мной научное исследование окончательно доказало верность этой гипотезы. Раскопки, проведённые соискателем и его единомышленниками, доказали, что великие озёра были жизненными центрами наших далёких предков. Вокруг озёр, на глубине более пятисот метров были найдены здания, сооружения, огромные дороги и многие другие материальные ценности эпохи Тёмных веков. Вы все наверняка уже ознакомились с результатами этого величайшего открытия, и я не буду их пересказывать. Скажу больше, для полного ознакомления с материалами будет снят специальный многосерийный фильм, так много материалов было найдено. И если бы работа молодого учёного была бы посвящена археологии, мне не к чему было бы даже и придраться. Но тема исследования звучит как «Социальная структура людей Тёмных веков», и тут у меня, разумеется, есть множество вопросов.
Профессор Пипа повернул голову и лукаво посмотрел на меня. Мне показалось, что я словно бы заледенел. Я подумал, что вот сейчас я и провалюсь в бездонную пропасть позора.
— Молодой учёный сделал много открытий, но некоторые его выводы просто поражают своей наивностью. Рассмотрю только те, которые касаются социального устройства наших предков. Исследователи нашли прекрасно сохранившиеся жилища древних злюдей. Они были погребены под толстым слоем пепла, поэтому хорошо сохранились. Как я уже говорил, тёмной эпохе свойственна культура гигантизма. Наши предки строили не только огромные дороги, но и дома их были излишне огромны. И вот уважаемый соискатель находит множество таких домов. В одних он находит большое количество ценных вещей, в других же наблюдает некую скудость. И вместо того, чтобы логично предположить, что ему попалось какое-то уникальное, нетипичное сооружение, уважаемый соискатель делает смелый вывод о социальной структуре общества: нашим предкам был свойственен невещевой коллекционизм. Этот термин – изобретение молодого ученого, поэтому я поясню. Он считает, что у наших предков существовало понятие собственности, причем не только на какие-то личные вещи, но и на книги, знания в этих книгах, дома, фабрики и заводы. И делает он такие выводы на основе той неоднородности материальных богатств, которую смогли наблюдать молодые археологи. Неужели им не пришло в голову, что эта неоднородность является лишь следствием природного катаклизма? Да и сама идея, что материальные ценности огромного сообщества могут принадлежать маленькой части членов этого сообщества, выглядит нелепой. Компьютерное моделирование показывает, что если бы и существовало, например, какое производственное предприятие, где большую часть дохода получал бы так называемый владелец, а не работники этого предприятия, то оно очень быстро бы разорилось. Оно не смогло бы конкурировать с другими предприятиями, где основная часть дохода направляется на развитие производственных мощностей и на зарплату рабочим, непосредственно изготавливающим продукцию.
В этот момент до моего слуха донесся ритмичный стук. Я, может, не обратил бы на него внимания, если бы Сёмка настойчиво не ткнул меня локтем в бок. Я обернулся и увидел, что это мой собственный хвост нервно барабанит по полу. Вещь неслыханная, поскольку только маленькие дети не могут контролировать свой хвост. Все взрослые люди умеют держать свой хвост в руках, а если и колотят им о пол, то делают это сознательно, выражая тем самым недовольство. Я был давно уже не ребенок, но всё равно в минуты сильного волнения мой хвост меня подводил. Схватив непослушный хвост руками, я прижал его к груди и извиняющимся взглядом посмотрел на профессора. Тот вроде бы не заметил моего конфуза или из-за деликатности сделал вид, что не заметил. Он продолжал:
— Но не будем сильно критиковать молодого ученого. Тем более, что он в этом вопросе сам указывал нестыковки. Правда, он пытался закрыть эти нестыковки, вводя ещё более сложные и сомнительные понятия и определения.
Так, в пятой главе своего исследования он отмечает, что нарастающая конкуренция при невещевом коллекционизме неминуемо приводит к крупным вооруженным конфликтам – к так называемым войнам. Этот термин автор позаимствовал из научной фантастики платинового века, и я тоже буду использовать этот термин за неимением лучшего. По мнению автора войны были основной составляющей жизни общества в Тёмные века. Война, как высшая форма конкуренции, заменяла тогда трудовые соревнования и определяла то, как будут распределяться ресурсы: трудовые, материальные и нематериальные, между общественными группами. Тут я хотел бы привести давние исследования профессора Тимки. Он в рамках своего первого исследования моделировал так называемые войны, описанные в научной фантастике, на мощнейших вычислительных комплексах планеты. И у него всегда получалось, что в любой большой войне всегда обе стороны терпят поражение: проигравшие сразу непосредственно, поскольку их уничтожают, а победившие спустя некий период релаксации, сто-двести лет, тоже приходят в упадок из-за моральной деградации. Они привыкают к существованию за счёт ресурсов своих жертв, очень быстро наращивают мощь и гибнут, когда поток ресурсов неминуемо иссякает, когда жертвы заканчиваются. К сожалению, хотя лучше сказать, что к радости, у нас нет исторических примеров такой ситуации, но есть аналогии из животного мира, когда какой-нибудь инвазионный вид захватывает большие новые территории, сжирает всё на своем пути и полностью гибнет, не способный существовать в симбиозе с местными видами.
Я уже почти не стоял на ногах. Сёмка поддерживал меня, не давая упасть в обморок. Я, разумеется, знал о проблемных местах моей работы, но мне казалось тогда, что я действительно сделал великое историческое открытие. Теперь же, после слов профессора Пипы, мне мои открытия казались каким-то детскими фантазиями. Или может, я просто легковнушаемый?
— Ничего-ничего, — подбадривал меня Сёмка, — держись давай. Мы ещё утрём нос этим старичкам. Даже если мы и ошиблись немного, всё равно в общем мы правы. Это они из зависти так тебя критикуют. Им завидно, что это не они сделали такое открытие.
— Да как ты можешь так думать? – возмутился я. – Ты слишком сильно проникся мнимой психологией людей Тёмных веков.
— Трудно представить, что что-то подобное происходило с нашими предками, — продолжал Пипа. – Всем известно, что они были гуманными, миролюбивыми существами. О чем уважаемый автор привел огромное количество доказательств, которые нельзя не упомянуть.
Во-первых – великие озёра. После проведенных исследований теперь уже окончательно доказано их искусственное происхождение. Это не просто места обитания наших предков, а места интенсивного видообразования. Видимо, наши миролюбивые предки предвидели массовое вымирание и заранее подготовили места, где из-за большого количество воды, растительности и повышенного радиационного фона должна была заново расцвести жизнь на нашей планете. Немного странно, что жилища наших предков обнаружены по периметру, на некотором удалении от озёр. В непосредственной близости к озёрам находились лишь разрушенные дома, а в центре вообще не находилось ничего.
Во-вторых – сами дома. Люди тёмных веков настолько любили окружающий мир, что и свои жилища строили так, чтобы там могли жить не только они, но и их питомцы. Особую страсть наши предки питали к гигантским приматам, которые всё-таки вымерли в тёмные века вместе с остальными приматами за исключением игрунок, которые хоть и ростом с человека, но в Тёмные века они были одними из самых маленьких приматов. Люди держали приматов в домах, строили с расчетом на них дороги и парки. Но всё равно они не смогли уберечь этот и многие другие виды от вымирания.
В-третьих, о миролюбивом характере древних людей свидетельствует огромное количество найденных инкубаторов для древних птиц и крупных млекопитающих. Там люди массово выращивали исчезающие виды, чтобы населить ими планету после кризиса. К сожалению, эта их затея провалилась, и сейчас на Земле нет представителей гигантских видов животных, кроме пингвинов, разумеется. Как вы знаете, эти огромные птицы являются живыми динозаврами, символами ушедшей эпохи. Как они смогли пережить Тёмные века пока остаётся загадкой.
Таким образом мы видим, что невещевой коллекционизм и так называемые войны не могли быть основой социального строя древних людей.
В этот момент профессор Пипа повернулся и посмотрел на меня. Он хитро подмигнул, от чего мне стало немного легче, и снова обратился к зрителям.
— Но это нисколько не умаляет ценность открытий, сделанных молодыми учёными. Они совершили по-настоящему огромный прорыв в исторической науке. Их раскопки обеспечили материалом несколько будущих поколений учёных. Не удивительно, что некоторые сделанные ими выводы выглядят несколько наивно. Объём полученной информации таков, что для получения надёжных, достоверных выводов потребуются годы и годы исследований. Именно поэтому на предстоящем совете я буду голосовать за предоставление уважаемому соискателю ресурсов для открытия отдельного института, посвященного изучению Тёмных веков.
В этот момент зал разразился аплодисментами. От шума у меня закружилась голова и поплыло перед глазами.
— Вот видишь, я же говорил, что всё будет хорошо, — радостно кричал Сёмка, практически засунув свой нос мне в ухо. – Мы не зря старались!
— Да я и не сомневался, что не зря, — немного расхрабрился я, когда зрение вернулось в норму, и я снова стал видеть свой нос и усы.
Рассказывать, что было дальше не имеет смысла. Было столько положительных эмоций, что они остались в голове как нечто одно большое и светлое. О таком счастье я и не мог мечтать. Не каждому в наше время удаётся связать работу с интересным делом всей своей жизни. По статистике только 50% людей к концу жизни считают, что им удалось всецело реализовать себя, так что их дело продолжит развиваться и после них. 30% разочаровываются в своем пути, меняют направление или присоединяются к другим группам более успешных учёных. 20% людей вообще живут, не понимая смысла своего существования. И хотя с ними работают воспитатели, всё равно их количество не сокращается. Хотя ради справедливости надо заметить, что раньше таких было больше. Тёмные века отбросили человечество далеко назад.
Первые тысячелетия после Тёмных веков люди жили в норах вокруг великих озёр, прятались от гигантских хищников, которые тогда ещё не вымерли. Чего стоили так называемые собаки. Было время, когда они могли полностью уничтожить людей. Но люди выжили, сумели воспользоваться материальными благами своих великих предков и возродили цивилизацию. И всё потому, что в отличии от других существ, люди всегда были коллективными животными. Человек никогда не обидит человека и не будет паразитировать на другом человеке. Профессор Пипа конечно прав: с невещественным коллекционизмом я конечно поторопился. Не могло существовать таких отношений между людьми. И не только потому, что они разрушили бы всю экономику и не выдержали бы конкуренции с единым хозяйством, а и потому, что отдельному человеку просто бы чувство природного сострадания не позволило накапливать богатства, видя, что рядом с ним другие страдают от голода. За все пятьсот тысяч лет человеческой истории встречаются лишь единичные примеры таких людей, и то это были больные люди или генетические мутанты. Но мне уж очень хотелось сделать сенсационное открытие, вот я и предложил новую теорию. В пять лет все, наверное, страдают юношеской пылкостью.
После общего выступления был банкет и даже не один. Гости разошлись по ресторанам небольшими группками, чтобы за порцией отборной овсянки ещё раз обсудить услышанные доклады. Профессор Пипа вежливо попросился присоединиться к нашей группе. Мы праздновали большим коллективом молодых учёных, с которыми я был знаком по прошлогодним экспедициям. Пипа пришёл с ещё одним древним старичком, лет за сорок, если не больше. Они поздравляли молодёжь, а под конец банкета, к моему удивлению, пристали к Сёмке. Они расспрашивали его о его работе во время экспедиций, о его административных решениях и нововведениях, которые очень помогли нам всем. Потом они долго его уговаривали учиться дальше на руководителя-администратора, говоря, что у него к этому делу особый талант. Сёмка отказывался изо всех сил. И я его понимаю: кому охота выполнять примитивную роль руководителя? Для этого есть компьютеры и искусственный интеллект. Но старичок пояснял, что руководящую рутину, разумеется, так и будут выполнять компьютеры, но такие люди как Сёмка, с нетрадиционным мышлением, очень нужны для принятия неординарных решений. На его решениях будет учиться искусственный интеллект следующего поколения. В итоге его уговорили-таки стать директором будущего института по исследованию Тёмных веков, где я буду, по мнению ученого совета, ведущим руководителем проекта. А чтобы Сёмке не было совсем грустно, ему разрешили выделить ресурсы для лаборатории сыроделов, и это правильно: нельзя заставлять человека делать нелюбимое дело без какой-либо отдушины.
С банкеты мы с Сёмкой ушли счастливые. Впереди была целая жизнь, полная интересной работы и великих открытий.
Рассказы и сказки для детей и подростков
Ещё сказки
Заяц и медведь
Ежиный лес
Ручей
Сказка про орехи
Одуванчик
Ежик заболел
Прощание с летом
У страха глаза велики
Дом для неизвестного зверя
Перелетные медведи
Скворец
Игра по правилам
Небо, звёзды и … морковка
Настоящая весна
Волк-Мороз
Грибное дерево
Сказка про мышь-обманщицу
Кладовочка
Соловей
Как заяц женился
Сборники сказок на ночь
Детские сказки
Все собранные здесь сказки — детские, но среди них есть ...
Про лису
Лиса — самая хитрая в ежином лесу. Она может обмануть любого. И...

Про медведей
Сказки про медведей, медвежат и медвежий характер. Не бойтесь читать...

Сказка на ночь
Сказки на ночь — это всегда добрые, спокойные сказки со...

Сказка про волка
Когда волк забывает, что он сильный и страшный, и у него случаются...

Сказки о природе
В сказках о природе главным действующим лицом являются различные...
Сказки о птицах
Жизнь птиц всегда насыщена приключениями. Они шумные и веселые,...

Сказки про барсука
Самый «колючий» в лесу — это Барсук. Да, да. И хотя...

Сказки про белку
У Белки всегда много забот и хлопот с детьми, но она не забывает и о...

Сказки про ёжика
Ёжик добрый, любознательный и немного задумчивый. Живет он в уютном...
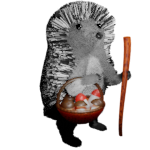
Сказки про енота
Енот немного замкнутый в себе. Он любит читать, разгадывать загадки,...

Сказки про зайца
Заяц — отец большого семейства. У него полным полно забот и...

Сказки про мышат
Мыши — мелкие создания, и мысли и желания у них порой тоже...

